Книгу Юза я купил случайно, по дороге в Дамаск. Прихватив с прилавка в Шереметьево штук шесть дешевых детективов, я уже в самолете обнаружил, что купил в том числе и очень хорошую книгу. Называется она "Синенький скромный платочек". Не могу удержаться - один из рассказов вывешиваю тут.
Юз Алешковский
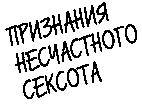
Дело было, надо полагать, зимой. Говорю “надо полагать”, ибо в тот, нынче вспоминаемый день похмельное мое сознание пребывало в настолько мерцательном и тусклом виде, что ему было не до обмозговывания ряда каких-то очевидных обстоятельств.
Не все ли равно сознанию, если оно вообще готово отмерцать при небывалом сужении сосудов, что за время года на дворе, какое вокруг располагается жестокохарактерное государство и в каком, собственно, теле оно еще мерцает — в теле муравьеда, изнемогающего от шевеления во рту живой, спирто смердящей массы, гиенокошки с вылезшими из орбиты гнойными глазками или давно знакомого сознанию полуодетого кентавра...
Поверьте, господа, в результате многолетних злоупотреблений, в момент критического сужения сосудов как головного, так и спинного мозгов, не говоря уже о сосудах замирающего сердца, стал я привидеться самому себе в ужасающих обличьях... К чести своей — лишь в ужасающих.
Никогда не привиделся я себе ни в обличьях наделенной властью свиньи, ни известного артиста в ратиновом пальто, ни директора Центрального рынка, ни теоретика физики, ни даже продавца винно-водочного отдела гастронома № 1. Никогда... Привычней всего, повторяю, было мне ощущать свой надтреснутый организм в форме кентавра...
Ежели накануне, то есть дней за семь до вынужденного стояния в очереди у ПУПОПРИПУПО, жрал я нечто аристократическое типа водки с коньяками, то полуодет бывал снизу. Верх же весь приходился на голую лошадинообразную внешность с прядающими от каждого мелкого звука ушами, отвисающей губой, желтыми зубами и с глазами в темных очках. В них мир не казался ярко торжествующим над моим поразительным ничтожеством. А очередища и не к таким видам привыкла.
Но если приходилось мне выжирать соответственно какую-нибудь очередную дрянь, сочиненную советской ебаной властью, то полуодетым я оказывался сверху. На низ же я робел глянуть хоть ненароком, ибо кто вынесет таковое захребетное зрелище без риска повредить остатки непоправленного еще здоровья? Кто, не содрогнувшись до самого основания, способен обозреть открывшиеся ему сногсшибательные подробности в виде всего конского вплоть до срамотствующей промеж буланых ног пегой тряхомудии, хвоста, засоренного репьями быта, и необутой парнокопытности? Да никто не сможет...
И я не мог, но вынужден был тратить остатки разумной воли на изгнание из пылающего воображения нежелательных деталей своей опустившейся внешности...
Так вот, я погибал в то утро, господа, двигаясь вместе с соседями по очередище к желанному проему ПУПОПРИПУПО. И всенепременно погиб бы, ежели бы не привык к погибанию подобного рода.
Уже готовилась верхняя моя полуодетая половина всхрапнуть от недостатка воздуха и слюны, а нижняя откинуть копыта, уже смирился я с тихим, с медленным, как в помещении кино, гаснущим в сознании светом дня, но был неожиданно возрожден к бытию случайным спасителем
...Кто-то тыркнул меня ощутительно в бок так, что дрожью передернуло мою шкуру, и грубо сказал: “Приложись, современник”.
Я приложился. О Боже, это было нечто коньячное... Жизнь буквально влилась в меня в тот же миг. Я смог выпрямиться, почуять, что у меня есть человеческие руки, а в них по авоське с посудой.
Спаситель мой помог мне не только водрузить ряды бутылок на прилавочек перед проемом, но и вытащить из них несколько пробок, без чего и лишился бы я необходимого полтинника. У меня не хватило бы ни сил, ни терпения, ни умения сконцентрировать бряцающие
по бутылке пальцы на вылавливании сволочной пробки в зловредной бездне зеленого стекла.
Затем я подождал в сторонке спасителя. Меня била дрожь возвращения жизни и безбрежной благодарности.
Он, выйдя, предупредил мои, готовые сорваться с губ слова...
— Со всеми бывает, — сказал он. — Пошли, дернем как следует.
Я предложил угостить его. Он решительно отказался, и мы благородно скинулись. Взяли жареной кильки, сырок “Нева” и немного хлеба — закуси, имевшей отношение к морской, речной и земной стихиям. Так выразился спаситель и пояснил с воодушевлением человека, предвкушающего близость чудесного, долгожданнейшего момента, что в нас с похмелюги не хватает минеральных элементов и, разумеется, элементарных минералов.
— Китайцы и японцы, — сказал он, — никогда не косеют, так как хавают продукты морского океана, а русский народ — вечно косеющая мудила, потому что не берет по тупости сахалинской капусты, но тычется пятачками в квашеную, от которой лишь пердеж пробирает да сводит зубы... Это мне свояк докладывал. Он шпионил в Токио. Ежедневно надирался водкой тамошней “Банзай” и закусывал только морской капустой. Ни в одном глазу и к тому же сухостой тонуса члена. Минерал с ходу в него вдаряет... Возьмем, пожалуй, грамм двести.
Поправились мы во вновь открытой общественной уборной. Там было тепло, как дома, светло и мухи не кусали. Мария Ивановна — смотрительница этого заведения — получила с нас полтинник авансу, поощрительное обещание отдать ей пустую посуду, но велела слинять через полчаса.
Оба мы взобрались на унитазы и возвысились над разделяющими людей постоянными перегородками. Стаканы, одолженные Марьей Ивановной, две бутылки “хирсы” и закусь мы разложили на крышках бачков.
Не знаю, уж как удалось мне забраться на унитаз. Ноги дрожали. В глазах была тьма со слабым просветом. Желудок рвался неведомо куда, и вверх, и вниз. Печень, словно чугунная чушка, тянула тело вбок и к тому же перекатывалась в остатках брюшной жидкости...
Если бы не влекущий к себе вид стоявших уже на унитазе бутылок, не уверен, что справился бы я сначала с одной ногой, потом с другой и вообще удержал равновесие. От рук же моих толку было мало. Это были скорее подбитые крылья, а не руки. И пальцы дрожали так, что подсунул бы кто-нибудь под них в тот миг солидный рояль — и выбили бы они из струн виртуозную, душещипательную пьесу. Из-за перегородок спаситель никак не мог мне помочь.
Но подъем наконец остался позади. Насколько величественнее все же, неизмеримо труднее, опаснее и неблагодарней, подумалось мне тогда, некоторые действия, совершаемые человеком внизу, в ногах, так сказать, у самой жизни, а не в тщеславном воздухе восхождения на равнодушную вершину, где победитель-мудозвон устанавливает флаг государства, топчущего достоинство личности злодейскими правилами сдачи пустой посуды.
Но... полстакашка портвешка, шматочек странной морской капусты с килечкой, поднесение к нюху кусочка хлебушка, пара богатырских кряканий надтреснутой в борениях с Роком души — и разобрались в момент пальчики, кто из них есть кто. Сердчишко, печеночка, железочки всякие, кишочки, почечки, пузырики и различные тракты прекратили бессмысленные препирательства с организмом, омылись мутные очи первой выделенной слезою, утвердился в прежнем желании потрепаться совсем было онемевший язык —я поправился наконец...
Еще мгновение тому назад я сам себя ненавидел, презирал и тоскливо жалел. В такие мгновения с особенной остротой замечаешь злобное расположение к своей ничтожной персоне, исторической, социальной и даже биологической действительности якобы лучшего из миров. Я как человек разумный огрызался на такое к себе отношение с максимальным остервенением. Но вот я внезапно и с Божьей помощью поправился. Я, следовательно, враз и себя зауважал и на окружающую действительность распространил свое благодушие.
Мог ли я поступить иначе? Нет, господа, и еще раз — нет! Иначе я был бы типичной неблагодарной свиньей, ибо свинья — есть человек, который опохмелился, но не исторг из глубин своего восстановленного существа огромное спасибо за спасительную поправку не только природе, но даже отвратительной нашей власти, нелепой партии и парализованному всеми этими преступными организациями народу.
В душе поправившегося человека вдруг происходит такое бурное, такое искреннее братание с отвергнутыми в разное время святынями семьи, собственности, любимого труда, бытовых обязанностей и разного рода долгов, что только еще ряд восторженных возлияний может несколько остепенить рвущуюся из его горла речь и строго унять нетерпеливые жесты.
О, как тянет говорить человека, говорить, говорить путано и стройно, даже не говорить, а как бы поливать сознание свое и собеседника целебною водою, словно зачахший от засухи палисадничек, не оставляя неполитыми ни комочка земли, ни ростка, ни листика, — говорить, не сомневаясь ни на секунду в том, что речь его необходима в сей требовательный миг не только опустившимся людям и вконец изолгавшемуся миру, но и Высшим Силам.
Кто-то из нас должен был, однако, молчать и слушать. Это был я. Говорил мой спаситель. Он имел на это полное право и, чувствовалось, давно мечтал выговориться. Вот его рассказ, не поправленный мною при записи ни в единой букве, то есть убереженный от хамского и самодовольного изуродования каким-либо шустрым литобработчиком, возомнившим себя сдуру художником слова, но начисто лишенным воображения, не посещаемым даже изредка озорными, страстными Музами...
Ты, современник, поверь, что если бы народ наш великий не был оторван от московской пищи, то ему вообще цены бы не было. Потому что мне покоя не дает какая-то Япония. Всю ее без труда можно разместить в самых непотребных наших республиках Мордовии и Чувашии с Ханты-Мансийским округом. Народец у нее низкорослый и в очках, но жрет морскую еду в виде коньков, медуз, гигантских таких манда-вошек —забыл ихнее название, —подводной капусты у народца этого неслыханное количество, а раковин всяких, где устрица лежит, как биток в закусочной, прямо на тарелочке, вообще не счесть. А трепанги? А крабы? А эти самые... омарксы красные?.. О рыбе я уж не говорю...
Зятек мой так и доносил сюда, в верха, что мяса не едят совсем и пьют за обедом горячую водку, ссаки которая по-ихнему называется. Ведь ты погляди, современник, до чего исхитрился японский народ: смекнул подогревать водку. Просто ведь рядом лежит у всего русского народа
на глазах такое решение, а он, гад упрямый, наоборот, в холодильники тычет водку, на морозе ее вывешивает там, куда техника еще не дошла, и подохнет скорей в тайге и зимой на стройке, чем подогреет в котелке стаканчик и заест его не колбасой крахмальной, но морской капустой...Вот и гляди: Япония обогнала весь мир по автомобилям, у нее Америка на коленях просит скромности в этом деле, радиотехникой уши забила даже папуасам и пигмеям, гондошки выкидывает с усами на рынок по таким низким ценам, что Голландия просто руками разводит от удивления, а сделать ничего не может. ООН мешает...
Зятек мой такого насмотрелся в этой Японии, что запивать начал. Наперсток выпьет ссаки тамошней горячей и чует шурум-бурум в голове. От него донесения красочней становятся и тянет к гейшам.
Гейша, по словам зятька, современник, это такая покупаемая в розницу дамочка, которая тебя за пару часов обслужит лучше, душевней и честнее, чем советская какая-нибудь супруга за всю жизнь. Она и на стол накроет, и не зарычит лишний раз при этом, она почитает тебе “Вечерку” с “Советским спортом”, капустки морской поднесет; ссаки поднесет в красивой чашечке и вокруг побегает на деревянных по-дошвочках, тук-тук-тук. О поддержке разговора и говорить незачем. Вся — внимание, скрытый восторг и только веером обмахивается вежливо. Не встрянет, не перебьет речи подлы ми вопросами насчет получки и откладывания “капусты” на ковер.
В гробу я видал твой ковер. Я не лягушка и не курица, чтобы что-то от-кла-ды-вать. Ты глаза выкати на меня, как гейша, и слушай, а денег не проси. Я, может, еще и сам дам больше, чем просишь. Ты меня обслужи душой и телом по-самурайски. Я тогда вкалывать буду почище самурая на рабочем месте и по всем показателям, и без туфты. Я тогда тоже гондошек навыпускаю, да навыкидываю на мировой рынок не то что со сталинскими усами, но и с кырломырской бородой. Я тогда завалю весь третий мир транзисторами и эмалированными шайками.
Извини, современник. У кого что болит, тот о том и говорит.
В общем, ссаки и закусь — только в Японии начало. Не успеешь отрыгнуть и в зубах поковырять бамбуковой зубочисткой, как начинается секс. Зятек, говорил, что секс в Японии уходит в глубину веков, тогда как у нас он начался сравнительно недавно.
Гейши обучены тысячам разных технических приемов. Попробуй запомни хоть десяток. Зятек записывать вынужден был порою, так как память просто отключается от удовольствия даже у наших шпионов и дипломатов.
Особенно же бесит меня не секс, этого ни у одного народа не отымешь, но бамбуковая зубочистка. Ты погляди: вмещаем в себя сто Японии, под землею у нас столько добра разного,
что на сорок историй человечества хватит, омываемы мы морями-океанами повсеместно, триста миллионов рыл толчется на этом пространстве, кто поправимшись, вроде нас, кто в изнываниях на служебном месте, но нету у нас почему-то не то что бамбуковых зубочисток — выковыривать из зубов у нас порою нечего... Что такое происходит?..
А вот никто не знает, что именно происходит в нашей стране. Поэтому, скажу от полного доверия к тебе, я и информирую мозговой трест о мнениях и настроениях народа, расположенного в самой низкой плоскости развитого социализма. Я очереди посудочные держу на себе...
Советские люди думают, что к ним не прислушиваются. Прислушиваются, и еще как. Там, в верхах, все известно. Материалы обрабатываются. Но обработчики-операторы — пьянь, сачки и шваль. На чем я остановился?.. Ага.
Я тебе не вру. Моя красная книжечка в сейфе лежит, чтобы не потерял по пьянке, и я информатор самой высокой квалификации. Заметь — никого не продаю и источников слухов и мнений не открываю. Верхам и без меня известно, кто чем дышит, с приблизительной точностью...
В этом месте мой спаситель — назвавшийся, впрочем, Петяней — вынужден был прервать свой рассказ. Мария Ивановна поднятой над перегородками шваброй дала нам понять, что пора честь знать и смахиваться. Желающих поправиться становилось все больше и больше. Надвигался обеденный перерыв, не говоря уж о наплыве в сортир пенсионеров, которые забивали на бульварчике “козла”, а в заведение спускались погреть посинелые
руки и задубевшие ноги. Да и сама публика зачастила что-то по той или иной нужде. Мы вышли на мороз.Я чувствовал, что благородный поступок моего утреннего спасителя не должен остаться без соответственных последствий и, недолго думая, предложил направиться в ломбард, поскольку принял решение заложить костюм, подаренный мамой на день рождения. До лета я вполне мог обойтись без костюма. Друзья узнают меня и без него. В новой очередище Петяня продолжал свой рассказ.
В ломбардах я тоже потрудился порядком. В прошлом году на Седьмое ноября получил повышение. В бутылочной сдаче настроения посложней и поразнообразней, а мнения, само собой, высказываются посущественней. Вчера вот даже проект был высказан. Хмырь какой-то взмечтал залить Мавзолей прозрачной пластмассой. Чтобы Ильич лежал в ней наподобие мухи в янтаре. Это сэкономило бы народу кучу “капусты”, потому что, по мнению хмыря, за бальзам и прочий целебный гуталин мы платим Индии и Израилю ежегодные десятки миллионов. А они могли бы пойти на стройку новых ПУПОПРИПУПО...
А другой хмырь доказывал, что, будь у него лаборатория, откуда его пошарили за кружку спирта, он враз изобрел бы новый полимер для винно-водочной посуды. Полимер этот можно было бы хавать как, примерно, стюдень, включая пробку, и таким образом народ и партия убивали бы сразу пару зайцев. Если в их НИИ икру выдумали искусственную и сливочное масло, то посуду съедобную замастырить — пустяк. Выжрал чекушку, занюхал пробочкой, сожрал посуду и живи себе спокойно.
В общем, должность у меня не пыльная, но, конечно, не то что у зятька в Японии была. Там гейши и горячие ссаки в фарфоровой чашечке...
А я ведь на шпиона в жизни шел... С детства, можно сказать, шел, но не дошел ввиду коварства судьбы и ряда иных неожиданностей подлого порядка. Амплуа у меня было — рабочий паренек. Вася с Курской аномалии, фрей с гондонной фабрики и так далее. Овладел рядом профессий. Учил английский с грехом пополам.
Никита после смерти культа большой упор взял на шпионаж. Пошло пополнение кадров. Ну дядя и устроил меня на учет в органы по части информации. Я в гору двинулся. Бесстрашно проникал в любую среду и собирал факты.
Однажды в пятьдесят шестом году слышу в очереди в баню, что советской власти в Венгрии пиздец приходит и надо бы сала венгерского с красным перцем запасти, а также бычьего вина.
Я даже банный день пропустил, но выдал рапортичку. Что ты думаешь? Через два дня войска наши туда вошли и повесили кое-кого за яйца. Просил у начальства послать меня за рубеж. Начальство присвоило мне лейтенанта, но заявило, что у меня язык хреновый. Тогда я в ответ говорю: разрешите войти в легенду глухонемого. Цены мне в Англии не будет и в Индии тоже.
Начальство одобрило предложение. Экзамен мне устраивали. Стреляли под ухом. А на мне приборы были подвешенные. Ни стрелка не моргнула. Глухой и глухой. На немоту тоже с блеском выдержал проверку. Два раза в очередях провоцировался, но не провалился. Двое гавриков пытались билеты на итальянский фильм взять без очереди. Я их отдернул. Один мне в глаза говорит: цыц, говорит, говно тамбовское. Другой же пидарастом обозвал мелко-пупым... Я молчу. Глух и нем. Они еще меня пообзывали, прорвались к кассе и взяли билеты. Но я-то ладно — я на службе и в легенде, а прочий народ, думаешь, постоял за себя? Привыкли мы, современник, быть рабами. Привыкли. Так привыкли, что даже сомневаюсь я порой: не покалечили ли нас при культе до того, что все мы в известном смысле глухонемые? Нам по мордасам... нас по карману... нас по посуде, по продуктам, по одежде, по оплате труда, а мы дышим себе в немытые сопатки, соплю утираем и проглатываем от партии и правительства все плюхи. Зря я тогда про Венгрию доложил. Зря.
Короче говоря, готовился я уже с подводной лодки вынырнуть у побережья Шотландии и приступить к помощи ирландским террористам, но тут Никите дали по манде мешалкой. Андропов в Москву из Венгрии прибыл и начал глаз точить на КГБ. Интеллигентами его наполнили, а нас — Васьков с Курской аномалии, пошарили обратно в информаторы и в охрану членов политбюро. А чего их охранять? Кому это говно собачье нужно? Кто в них стрелять станет? Такие люди вывелись. Их бы всех по пять раз можно было бы укокать при желании. Все думают, что Ильин в бровастого стрелял самолично, а я предполагаю и знаю, что это Андропов направил дуло, чтобы убрать генсека, пока самого Андропова почки не доконали и прочая хворь. Надо же и ему погулять по буфету слегка...
Вот я и топтался у правительственных дач, как попка. Шкалик с собой брал всегда на дежурство. Засосу глоток, занюхаю мандаринкой или яблочком и снова топчусь.
Наблюдаю за жизнью правящего класса и как они бутылки не сдают, но выкидывают. Зажрались, падлы, и хер за мясо не считают, как в народе говорят...
Так бы, думаю иногда на морозе, залил бы зажигательной смеси в поллитровку и врезал бы в дачное окно под Седьмое ноября. Там у них такие развратные дела происходят, что не стесняются и занавески раздергивают. Смотрите, мол, трудящиеся массы, как удовлетворяются правящие классы.
Вдруг подъезжает ко мне однажды “Волга” на трех колесах. Четвертое спустило. Старый большевик с красным рылом вылезает и говорит:
— Я заплачу, товарищ. Смените нам баллон. Я с домкратом не справлюсь.
В “Волге” две дамочки сидели. Одна сушеная уже, а другая помоложе. Черноглазая. Высокая. Физия широкая и длинная. На голове коса.
Отвечаю вежливо, что не выгуливаюсь здесь, а делом занят. Старый большевик говорит:
— Все мы, товарищ, делом заняты. Я в партии с двадцать четвертого года. Не звонить же в ЦК по пустякам.
— Пожалуйста, — просит дамочка помоложе и язык облизывает. Кокетство наводит.
Плевать, думаю. Халтура никогда не помешает. Никто тут не жахнет в члена политбюро, если он даже мимо проедет, пока я баллон сменю.
Сменил. Сунул мне коммунист пятерку. Я не беру. Он полагает, что мало дал. Но я и червонец не беру. Передумал я брать. Вдруг это проверяющие?..
Тогда сушеная говорит мне:
— Заходите к нам после дежурства. Наша дача в проезде Ленина на углу Розы Люксембург.
— Будем рады, — говорит молодая. — Как вас зовут?
— Петр.
— Не обижайтесь, что деньги предлагал. Великий Маркс считал необходимым оплачивать наемный труд. Что и говорить — принцип этот иногда выполняется не до конца. Заходите. Побалакаем, —добавил партиец.
Я пообещал зайти, так как сразу почуял сильное половое влечение к молодой и ниже-средне-сильное к сушеной. Такие отчаиваются на многое в постели юных холостяков.
Пришел сменщик к десяти вечера. Разило от него, и отрыгивал он стюднем с чесноком. Я отлил у забора — в гостях стесняюсь отливать — и двинулся на дачу.
Прихожу. Стол накрыт. Телик включен. Сушеная в юбке ходит, а дочь в брюках. На стенах фотографии. Партиец, оказывается, полковником был в органах, а,жена его майором. Служили в тюрьмах и в лагерях. Я получил на этот счет короткие пояснения. Полковник после первой чайную бабу снял с какого-то предмета на буфете. Это оказалась фигура Сталина по пояс.