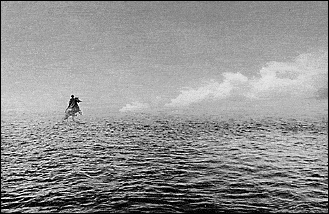300
Сергей Мостовщиков
ЛЕСТНИЦА
Все началось с пьянки в мастерской прославленного питерского художника Виктора Тихомирова на верхнем этаже дома, затерянного в Аптекарском переулке за храмом Спаса-на-Крови. Может быть, вы никогда не бывали в Петербурге, не знаете, где там этот храм и уж тем более Аптекарский переулок, но с творчеством Тихомирова сталкиваться всем приходилось наверняка. Этот художник с Божьей помощью создает небольшие картинки, на которых встречаются люди в шапках или простоволосые. Часть из них – мужики. Бывают и бабы. Иной раз творец не брезгует пририсовать к картине жизни еще и колбасу, какое-либо животное, небо, дом. То есть, охватывая своим творчеством разные аспекты бытия, Тихомиров как бы дает понять современникам: чем тупо напиваться в одиночестве, купили бы лучше водки и сельдей да зашли к нему в мастерскую. Здесь, глядя на тусклые крыши Петербурга, в глаза незнакомых, случайных мужиков и баб, вдыхая дым и алкоголь, вы могли бы гораздо быстрее, чем лежа под забором, сделаться обладателем какой-нибудь неожиданно ценной мысли или, наоборот, потерять себя как личность. К этому ведь и сводится в конечном итоге смысл странного сочетания в жизни любого человека храма, крови, аптек, переулков, мужиков, баб, творчества и сельдей. Не так ли?
Я вынужден объяснять столь очевидные вещи так подробно потому, что речь в этом повествовании пойдет о 300-летии Петербурга, которое случится в конце мая этого года. Торжества по этому поводу задуманы такие, что их последствия наверняка изменят и сам Петербург, и Россию, и мир. Как знать, прежней ли окажется старушка-планета, когда отгремят уже последние залпы салюта, когда завершится в акватории Невы лазерное шоу специально приглашенного японца Хиро Ямагато и состоятся специально запланированные для гостей Петербурга ретропоездки на паровой тяге в загородные резиденции русских царей? Я, например, в этом совершенно не убежден. Поэтому крайне важно уже сейчас не упустить любую мелочь, любую деталь, способную отразить происходящее.
Итак, первая же отмеченная мною странность 300-летнего Петербурга заключалась в том, что я не смог найти мастерскую художника Виктора Тихомирова в Аптекарском переулке за храмом Спаса-на-Крови. Еще более странным я считаю то обстоятельство, что я бывал в этой мастерской и прежде, и в кармане у меня лежала бумажка с точным адресом искомого места. Вообще посторонними, приезжими людьми за Петербургом давно замечено свойство запоминаться и забываться, как мимолетный сон. Казалось бы, вот только что перед глазами, как наяву, был прямой и роскошный Невский проспект, и вдруг вместо него появляется глухой закоулок, яма, обрыв. Знакомые вроде бы улицы в течение дня полностью меняют свое направление, речки – названия, мосты внезапно разламываются пополам и уложенный на них асфальт вместе с трамвайными путями, фонарями и лужами вздыбливается, образуя непреодолимую холодную стену. Вымолить объяснение этой загадки у самих петербуржцев невозможно. Они выплывают на свет из своих тайных каменных омутов, как большие величественные рыбы, выпускают в мутный океан атмосферы пузырьки непонятных слов, потом хватают ртом зазевавшегося закусочного червячка, бьют хвостом и исчезают за кораллами домов, покрытых темными водорослями времен.
Петербург всегда остается для чужого человека незнакомой средой, стихией, способной сбить с толку зазевавшегося ее испытателя. Вот, например, что рассказывал мне о своих удивительных наблюдениях журналист Алексей Казаков, который не так давно перебрался в Питер из столицы, чтобы редактировать здесь местную версию московского журнала «Афиша». Он, скажем, пытался нанять себе здесь жилье, для чего обошел в общей сложности 11 квартир. В девяти из них стояло черное пианино. А однажды в январе его сотрудница пришла на работу с заплывшим глазом. Он спросил ее: «Что случилось, милая?» Она ответила: «Шмель в трамвае укусил». Он спросил: «В январе?!» Она ответила: «Да я же говорю – в трамвае».
Короче говоря, путем нечеловеческих усилий, расспросив с десяток петербуржцев, ухватив за фалду милиционера и показав ему бумажку с адресом, я наконец-таки отыскал дом художника Тихомирова, перед которым, как выяснилось, все это время стоял. Замечу: это был самый что ни на есть центр города, но ни света, ни людей на лестнице не оказалось, и чем выше я поднимался, тем гуще становилась тьма. Снаружи дом представлялся мне невысоким и жилым. Но где-то, наверное, через час, преодолев непонятное количество вымерших этажей, я совсем потерялся. Я перевел дух и малодушно поглядел вниз, подумывая о побеге. Но и внизу теперь образовалась черная пустота – путь к отступлению был явно отрезан. И в этот момент мир закончился. Лестница оборвалась последней площадкой без квартир и каких-либо признаков человечества. Господи, что за дикость такая, подумал я. Я поднимался к небу, а оказался в преисподней. Что же мне делать теперь?
От отчаяния я начал ощупывать темноту и наткнулся на какую-то проволочку, торчавшую из стены. Я дернул за нее с мужеством сапера, решившегося на самоубийство, и вдруг услышал мелодичный звон. Добрый тихий колоколец спасения зазвучал где-то по ту сторону бытия, разбудил там неторопливые шаги, они стали приближаться, и внезапно стена распалась, открыв светлый проход в небольшую, но уютную квартирку под крышей, где имелись две комнатки, тесная кухня, стол, лампа, несколько стульев и пожилой просиженный диван.
В сущности, помещение представляло собой смысл, итог жизни: через сомнения, ужас и одышку я попал туда, куда и собирался – в мастерскую прославленного художника Тихомирова. Здесь были: сам прославленный художник, плоды его труда, занимавшие собою все стены квартиры, юная беловолосая барышня, по виду напоминающая невесту, и молодой человек непонятных наклонностей с величественным, но несколько упадническим профилем. Я все время потом пытался разглядеть его анфас, но он странным образом всегда оказывался обращенным ко мне именно что этим своим профилем. Более ничего сообщить о нем не могу. Невеста занята была разглядыванием мертвого белесого червячка на дне бутылки с текилой. Сам же хозяин мастерской, прославленный художник Тихомиров, открывший дверь, предложил мне присесть к столу, оказал знаки гостеприимства, но вскоре тоже утратил ко мне интерес, предпочтя заняться созиданием очередного труда о жизни мужиков, баб и колбасы. Вся эта удивительная компания старалась молчать и вести себя независимо от обстоятельств.
Не следовало удивляться и тем более обижаться на такой поворот событий. Ибо в этой странности и кроется еще одна суть 300-летнего Петербурга: многим занятиям здесь предпочитают тишину и отстраненность. Вот образец разговора типичного петербуржца с типичной петербурженкой по телефону: «Ангел, как вы? Будьте любезны, отвезите собак в Сестрорецк, а детям дайте ту книжку, о которой я вам говорил. И давайте встретимся с вами где-нибудь в ночи». Естественно, они живут вместе уже 12 лет. Естественно, не женаты. Так что я разложил на столе собою же принесенных сельдей, водку, хлеб и колбасу, выпил несколько долгожданных рюмок и развлек себя искристым монологом о свежих слухах, разнюханных в предпраздничной Северной Пальмире.
Слухи были такими: мне говорили, что на торжества в город приглашены и слетятся то ли 50, то ли 60 царей, царевен, королей и королевен из других стран. Что аэропорт «Пулково» в этой связи закроют для всех посторонних рейсов на несколько дней, потому что сначала будут завезены сюда кареты и пожитки почетных персон, а потом и сами персоны. Что в центр города будут пускать только по паспорту с пропиской. Что все будет перекрыто. Что петербуржцев просят на время торжеств покинуть город и каждому, кто это сделает, ликероводочный завод «Ливиз» обещает выдать по бутылке водки. Что японцы подарят Питеру тысячи сакур, и как они тут выживут, непонятно. Что скульптор Зураб Церетели уже соорудил для Питера 300 своих скульптур, и это ужасно. Что если не приедет Пугачева, то будет петь Пьеха, а если не Пьеха, то хор Водоканала. Что по квартирам ходят участковые и просят не высовываться в праздники из окон, потому что на всех крышах будут прятаться снайперы, и они откроют огонь.
В этот самый момент в окно мастерской постучали. Рюмка замерла у меня во рту. Невеста отвлеклась от созерцания червячка, профиль повернулся к свету обратной своей стороной, которая, кстати, оказалась ничуть не понятнее первой, художник Тихомиров отложил набросок колбасы. За окном на крыше стояли два молодых человека. Они попросились войти, чтобы через квартиру проникнуть на лестницу и спуститься в город. Когда им налили водки и они ее выпили, один из молодых людей оказался Дмитрием. Опустив рюмку на стол, Дмитрий сказал:
– Так вот, сижу я как-то дома. Скушал котлетку, как следует покурил. Вдруг звонок. Открываю – участковый. Он меня спрашивает: «Где ружье?» Я говорю: «Нет ружья». Он: «А где тогда Василий Иванович?» Я говорю: «Василий Иванович в плаванье. Будет через полгода». Он говорит: «Ладно, тогда вычеркиваю». И ушел.
– И все? – спросил я.
– И все, – ответил Дмитрий.
ЭКСКУРСИЯ
Я никогда не умел толком понять, зачем и для кого 300 лет назад построен был на свете город Петербург, наша вторая столица, Северная Пальмира далеко не южной страны. Всякий другой город, в котором мне случалось бывать, всегда имел какой-нибудь особенный смысл, резон для проживания в нем людей. Баку был построен для нефти и икры, Ташкент – для усиленного питания, Хабаровск – для скитаний, Якутск – для якутов, Мытищи – для сомнений, Химки – для драк, Ростов-на-Дону – для веселья разбойников, ловли раков и разведения шашлыков, Комсомольск – на Амуре, Ярославль – на Волге. Любое место на земле, любой бугорок, деревня, пригодные для размножения человечества, всегда возникали сообразно какой-то продуманной или естественной, природной логике. Но никак, ничем вразумительным, никаким даже извинением, оправданием или глупостью невозможно мне было объяснить себе самому, зачем, ну зачем самодержец Петр Первый построил на болотах, на задворках империи, на берегу свинцовых, неласковых вод весь этот дикий каменный слепок с нерусских, глубоко подозрительных, чуждых пьяному и бородатому народу традиций?
Зачем он, отец родной, прорубил окно в Европу, в которое за 300 прошедших лет никто даже и из любопытства не заглянул, не вышел в это окно и не вошел в него? Почему он строил здесь Амстердам, а потомки называют его Венецией, хотя ни тем, ни другим Петербург не являлся и не является? Зачем здесь столько дворцов, сколько и до сих пор не наберется элиты во всей России? И отчего в этих дворцах никто никогда не жил счастливо, а только лишь умирал некрасивой, мучительной смертью и никогда уже больше жить не будет? Какая сила, праведная идея была заложена безумным русским царем во всю эту бедняцкую роскошь, если последующие 300 лет славы Отчества эта роскошь только и делала, что увядала, и не спасти ее теперь уже никому, не удержать, не вернуть? Отчего в единственном европейском городе России, столице древности и подлинной культуры ее, которой исполняется всего лишь 300 жалких каких-то, несерьезных лет, зассаны все парадные и исписаны краской все стены? Почему именно тут, на болоте, находится колыбель всех русских смут и одновременно – гениальности народа? Зачем на севере – царство фонтанов?
Никогда, никогда я не мог найти ответов на эти вопросы, хотя и бывал в Петербурге миллионы раз. В этот последний, юбилейный приезд я даже специально навел соответствующую справку у самого почетного местного краеведа, ученого человека, гуманиста, просветителя и публициста Льва Яковлевича Лурье, мужчины, естественно, выпивающего и крайне этим умудренного.
– Думаю, Сережа, дело в амбициях и в воде, – так ответил мне ученый человек, имея в виду, что царь Петр был так одержим водою, что даже обожал смотреть на то, как тонут в ней русские бабы. А что же касаемо амбиций, то краевед заметил буквально следующее:
– А скажи, Сережа, куда же ты, например, едешь, когда тебе совсем опостылет Москва?
– В Петербург, Лева, в Петербург, – ответил я с грустью.
– То-то, – сказал гуманист, поднял вверх назидательный палец, и мы налили себе еще, а потом еще, а потом наша философская беседа сама собой лишилась так необходимых для русской истории деталей.
Так что восстанавливать утраченный смысл я на следующее же мерзкое утро решил самым, как мне казалось тогда, подобающим методом. А именно: на Невском проспекте, в ларьке у «Гостиного двора», я купил себе билет на обзорную автобусную экскурсию по Петербургу для настоящих идиотов. Таких вместе со мной вскоре набился полный «Икарус». Прекрасный наш экскурсовод, женщина с лицом тяжело и бессмысленно пьющего мужчины, предваряя радость поездки, бодро дунула в микрофон – хрип в динамиках расколол мою похмельную голову надвое, глаза мои лопнули от боли, и я очнулся только на обрывке ее фразы: «...царь Петр решил построить Петербург, и застучали топоры, зазвенели пилы...»
Если вы когда-нибудь становились добровольной жертвой автобусной экскурсии, то должны знать, что этот тип миросозерцания довольно причудливо преломляет действительность, превращая ее в набор удивительных, но совершенно бессмысленных фактов и цифр. Бытие, проплывающее мимо созерцателя то в левом, то в правом окне, выстраивается в одну какую-то загадочную формулу, абсурдное уравнение, содержащее, может быть, суть, но не имеющее решения. Так было и на этот раз. Посмотрите на Невский проспект. Его длина составляет четыре с половиной километра. Невский проспект часто называют «парадизо», что в переводе на русский язык означает «рай». Иноверческие храмы находятся на левой стороне проспекта. Дворцовая площадь. Ее площадь составляет девять гектар. На площади мы видим Зимний дворец, зимнюю резиденцию русских царей. Площадь дворца составляет 46 тысяч квадратных метров. Карниз – два километра. В настоящее время здесь располагается Государственный Эрмитаж, что в переводе означает «уединение». В Эрмитаже 1057 залов, 2000 окон. Известно, что если каждый день проводить в Эрмитаже по восемь часов и задерживаться у каждого экспоната на одну минуту, на осмотр всей экспозиции потребуется 11 лет. Царица Екатерина, проживавшая в Эрмитаже, была озабочена большим количеством мышей. Для борьбы с ними из Казани были специально доставлены 60 котов. Петербург не напрасно называют музеем мостов под открытым небом. В Петербурге 585 мостов, 21 из них – разводной. Тюрьма «Кресты». Здесь находятся 999 камер. По преданию, в тысячной камере были замурованы строители тюрьмы. Здание тюрьмы красиво подсвечивается ночью.
На двадцатой примерно минуте прослушивания этих мантр сознание мое поплыло, тело обмякло, и единственным поводом для жизни в материальном мире остался приобретенный на входе в автобус набор карманных календариков «Эротика в изобразительном искусстве. Из собрания Петергофа». Впрочем, и они побуждали меня к немедленной смерти от тоски. Скажем, голая Елизавета Петровна в виде ребенка работы некоего живописца Г. Бухгольца (середина XVIII века), хотя кокетливо и была расположена художником на мантии из горностая, походила скорее на утопленницу. Вода и амбиции – пронеслось было в моей пропадающей голове. Однако внезапно мое страдание было вознаграждено, да как!
– Обратите внимание на знаменитый Аничков мост, по которому Невский проспект пересекает реку Фонтанку, – прогремел надо мною голос женщины с пьющим лицом. – Здесь мы видим скульптурные композиции из обнаженных мужчин и коней. Мужчины держат вздыбленных животных за уздцы, что является символом победы человека над необузданными силами природы.
Господи, Боже ты мой – сердце мое забилось в адской радостной пляске. Вот оно! Вот ответ! Вот идея! Вот смысл! Вот где встречаются вода, амбиции и истина! Русская Европа, великая, непоколебимая, бесстрашная страна! Ведь это ж надо: на морозе, на болотах, с голой жопой голыми руками держать под уздцы весь опостылевший, ненавистный свет, всю его природу и традиции с такими, казалось бы, огромными медными яйцами! Слезы гордости чуть было не хлынули из глаз моих в Фонтанку, не затопили собой Неву, а потом уж и остальную Балтику. Я бросился из автобуса прочь и еще около часа стоял, простоволосый и благодарный, подле скульптурных композиций из обнаженных мужчин и коней. Ну а потом, конечно, пошел закрепить познание водкой.
Благо заведение оказалось невдалеке. К нему вела скромная надпись «Кафе» со стрелкой во двор. Следуя указаниям стрелки, я оказался вначале в темной арке, а потом уж и у двери, к которой было прикреплено объявление: «Добро пожаловать в китайское кафе, закрывайте, пожалуйста, дверь». Поднявшись по какой-то заброшенной, убитой лестнице на второй этаж, я вошел в квартиру, переделанную под странное заведение. Стены его были разрисованы аэрозольной краской – в полумраке по ним ползли красные свирепые драконы и синие, не понятные мне иероглифы. Сделав несколько шагов вовнутрь, я понял, что нахожусь здесь совершенно один. Никто не вышел ко мне, не спросил, что я здесь делаю. За несколькими столами, покрытыми белыми скатертями, никто ничего не ел и не пил. За одеялом, отгораживавшим вход в какую-то потайную, видимо, комнату, слышались приглушенные голоса китайцев. Я растерянно огляделся по сторонам, не зная, что же мне в точности следует предпринять.
То, что я увидел в следующую минуту, заставило меня вздрогнуть и остолбенеть. В душе моей застучали топоры, зазвенели пилы. Ясность и гордость, с таким трудом добытые у Аничкова моста, рухнули в одно мгновение, легенда о русской Европе, противостоящей силам природы, рассыпалась в пыль. В дальнем углу, бережно обойденное по краям китайским аэрозольным живописцем, стояло черное пианино, немыслимое и необъяснимое, как сон.
БЕГСТВО
Не буду, друзья, более утомлять вас картинами собственного бестолкового пьянства. Скажу лишь, что для него я подыскал себе другое, более уютное кафе в скромном подвальчике на улице Маяковского. Это кафе тоже называлось «Кафе», как это принято в 300-летнем Петербурге, и умилило меня одной лишь фразой из своего меню: «Котлетки домашние, 2 шт. – 35 р.». Здесь я работал с документами.
В один из дней, листая программу официальных торжеств, намеченных на период с 23 мая по 1 июня, я окончательно лишился рассудка и спешно покинул Северную столицу. Произошло это при следующих обстоятельствах. Блуждая глазами по длинному списку праздничных мероприятий, я думал о том, как часто радость в России становится ее национальной трагедией, фестивалем глупости и гордыни. В документе меня поражало решительно все: молодежная велогонка «Пушкинская весна»; соревнования по греко-римской борьбе, посвященные 300-летию Петербурга; торжественные молебны в храмах различных конфессий (ответственные за проведение – религиозные объединения СПб); праздничная научно-практическая конференция «Химия и химическая технология на рубеже веков»; открытие мемориальной плиты А. Баязитову, редактору первой татарской газеты «Нур»; торжественное вручение нового рояля Санкт-Петербургской академической филармонии; международная выставка собак «Белые ночи-2003»; открытие «Башни мира» и даже пометка в графе «Источник и объемы финансирования» напротив мероприятия «Торжественное богослужение в Исаакиевском соборе». Там было написано: «Внебюджетное».
Все это было и весело и грустно, но вполне укладывалось в безутешные мои попытки разобраться, почему на свете вот уже 300 лет подряд существует город Петербург. Однако внезапно взгляд мой упал на строку, в которой значилось буквально следующее: «1 июня. 12.00–21.00. III Международный детский карнавал “Страна зеленых зайцев”».
Как только я прочел эту фразу, раздался хлопок, свет погас. В зале появилась официантка, которая попросила не беспокоиться: это выбило пробки, сейчас все починят. У официантки был затекший глаз.
– Вас укусил шмель? – спросил я ее.
– Откуда вы знаете? – спросила она.
– Догадался, – ответил я.
Она улыбнулась. На руках у нее сидел кот. И вот здесь мне сделалось по-настоящему страшно. Я вспомнил то, что все время ускользало от меня в течение путешествия. Алексей Казаков, которого я упоминал еще в начале повествования, рассказывал мне не только про пианино и шмелей. Он рассказывал мне и про котов. Дело в том, что в Петербурге существует легенда о том, что 60 котов, завезенных в Эрмитаж Екатериной, до сих пор живы. Никто не знает, где они и чем занимаются, но только в какой-то момент они обязательно приходят к человеку, который дольше обычного задержался в городе на Неве. Причем к каждому – по-своему.
– Знаешь, я не верил во всю эту ерунду, – говорил мне Казаков. – Но только однажды ночью я проснулся у себя в квартире и смотрю: стоят три кота. Два молчат, а один с лицом Юрия Владимировича Андропова.
– И что? – спросил я его.
– А ничего. Постояли и ушли. Больше я их не видел.
Я совершенно отчетливо помню ощущение, которое испытал от этого краткого рассказа. Когда я посмотрел на лицо Казакова, я понял: отсюда он больше не уедет никогда.
Бежать! Бежать, пока не застучали топоры, не зазвенели пилы! Спасаться, пока не отказала воля! Теперь я точно знаю, для чего 300 лет назад здесь было прорублено окно. Оно имеет обратный, всасывающий смысл. Это западня! Все формулы этого города вдруг выстроились в одну понятную, звенящую цепочку. 50 руководителей стран и народов, приглашенных на торжества! Будут разведены мосты! Они спросят, как пройти в Аптекарский переулок, и он замкнется за ними, улицы изменят геометрию, реки – названия. Только 11 лет у них уйдет на осмотр Эрмитажа! Длина одного Невского проспекта – 4,5 километра, его не преодолеть им никогда! Да и зачем? Китайское кафе, Василий Иванович в плаванье, червячок на дне текилы, невеста, профиль, «Кресты»! Тюрьма красиво освещается ночью. В тысячной камере замурованы строители! Парадизо. В переводе – рай.
Господи, не спасется никто. Сладкий, обволакивающий болотный сон. Темница любви. Домашние котлетки по 35 рублей! Ангел, как вы? Давайте встретимся где-нибудь в ночи...
перепечатано из журнала "Большой Город" № 15, 16 мая 2003 года